Юлия Подлубнова родилась в 1980 году в Свердловске. Окончила филологический факультет Уральского государственного университета, кандидат филологических наук. Живет в Екатеринбурге. Заведующая музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века», научный сотрудник сектора литературы ИИиА УрО РАН, доцент Уральского федерального университета. В качестве литературного критика публиковалась в журналах «Урал», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», на портале «Textura» и др. Автор книги статей и рецензий «Неузнаваемый воздух» (Челябинск, 2017).
Знаки понимания
(О книге: Лев Рубинштейн. Что слышно. – М.: АСТ: Corpus, 2018)
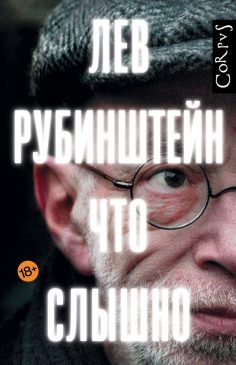 Похоже, в 2013 году Льву Семеновичу Рубинштейну дать НОС поспешили. Напоминаю, что лауреатство поэту, одному из основателей московского концептуализма, принесла книга «Знаки внимания» (2012), составленная из колонок, написанных для самых разных изданий, – от глянцевого мужского журнала «Esquire» до политических и остро оппозиционных «Граней.ру». Книга Рубинштейна с её дотошной диагностикой общественно-политических и социокультурных процессов современной России, с её панорамным историческим взглядом, основанном всё же на опыте частного человека, казалась в ту пору чрезмерно актуальной и по-своему трендовой. Уже случились шествия белых ленточек в центре Москвы, скол зубной эмали у омоновца на Болотной площади, легендарная двушечка за панк-молебен в Храме Христа Спасителя, закон несчастного Димы Яковлева и прочее, воспринимавшееся тогда ещё не мордором, а мороком, который вот-вот развеется, надо только немного подождать, чтобы увидеть небо в алмазах и моральный закон в дорогих соотечественниках, особенно тех, которые при власти. Кто бы подумал, что тогда всё только начиналось? И что Рубинштейну окажется в самую пору выпустить ещё две книги: «Скорее всего» (2013) и «Причинное время» (2016), одна другой актуальнее, только актуальность их будет выглядеть совсем по-иному – уже не как дань моде, но как убедительная попытка зафиксировать современность в её грозной динамике и ошеломительной стереоскопичности. И потому колонка с её возможностями оперативного реагирования здесь более чем уместна, а площадки публикации – топовые или нетоповые – не имеют особого значения. Собранные в книгу колонки перестают быть автономными высказываниями, где-то и когда-то опубликованными, и работают как пусть и фрагментированный, но целостный текст, отразивший как зримое и незримое вещество времени, так и специфику личности его создателя.
Похоже, в 2013 году Льву Семеновичу Рубинштейну дать НОС поспешили. Напоминаю, что лауреатство поэту, одному из основателей московского концептуализма, принесла книга «Знаки внимания» (2012), составленная из колонок, написанных для самых разных изданий, – от глянцевого мужского журнала «Esquire» до политических и остро оппозиционных «Граней.ру». Книга Рубинштейна с её дотошной диагностикой общественно-политических и социокультурных процессов современной России, с её панорамным историческим взглядом, основанном всё же на опыте частного человека, казалась в ту пору чрезмерно актуальной и по-своему трендовой. Уже случились шествия белых ленточек в центре Москвы, скол зубной эмали у омоновца на Болотной площади, легендарная двушечка за панк-молебен в Храме Христа Спасителя, закон несчастного Димы Яковлева и прочее, воспринимавшееся тогда ещё не мордором, а мороком, который вот-вот развеется, надо только немного подождать, чтобы увидеть небо в алмазах и моральный закон в дорогих соотечественниках, особенно тех, которые при власти. Кто бы подумал, что тогда всё только начиналось? И что Рубинштейну окажется в самую пору выпустить ещё две книги: «Скорее всего» (2013) и «Причинное время» (2016), одна другой актуальнее, только актуальность их будет выглядеть совсем по-иному – уже не как дань моде, но как убедительная попытка зафиксировать современность в её грозной динамике и ошеломительной стереоскопичности. И потому колонка с её возможностями оперативного реагирования здесь более чем уместна, а площадки публикации – топовые или нетоповые – не имеют особого значения. Собранные в книгу колонки перестают быть автономными высказываниями, где-то и когда-то опубликованными, и работают как пусть и фрагментированный, но целостный текст, отразивший как зримое и незримое вещество времени, так и специфику личности его создателя.
Новая книга, вышедшая под названием «Что слышно», объединила три предыдущие, став существенным итогом деятельности Рубинштейна-колумниста (Рубинштейна-фельетониста). Существенным – не только по объёму, но и по тому, что позволило автору послесловия Григорию Чхартишвили заметить: «Получился роман и, пожалуй, даже эпическое произведение о нашей с вами жизни, о своём и о чужом, о вчерашней, сегодняшней и завтрашней России. И не только России. Знаете, мне даже кажется теперь, что только таким и может быть роман, написанный о современности».
Разумеется, «Что слышно» можно без колебаний ставить на полку к «Живите в Москве» Дмитрия Александровича Пригова или «Трепанации черепа» Сергея Гандлевского – здесь есть время, место и герой – три персонажа книги, между которыми выстраиваются энергетические поля, где есть эмоции, конфликты, абсурд, игра, где смехом решается то, что ни при каких иных обстоятельствах решения не имело бы.
С другой стороны, точность диагнозов, вынесенных Рубинштейном современности, филигранность формулировок, гуманистический дискурс колонок-фельетонов, колонок-эссе отсылают, например, к интервью Ольги Седаковой, книга которых сейчас готовится к выпуску в издательстве «Новое литературное обозрение». Общее у поэтов – сочетание вовлечённости в происходящее и критической дистанцированности от него, «уместность высказывания и точечное попадание в конкретный контекст», что, по мнению Рубинштейна, является критериями настоящего искусства. В таком случае, если «Что слышно» определять как роман, то роман документальный, роман-документ, свидетельствующий об эпохе, которая кипит, шумит, полнится разговорами, эпатирует новостными поводами, смешит анекдотами, фонтанирует оксюморонами, ошеломляет гэгами, цепляет обрывками фраз.
«Война была одна. И её, как известно, посредством чьих-то дедушек выиграли Мизулина с Милоновым».
«Ну и не могло обойтись без дважды утомленного солнцем главного режиссёра суверенно-демократического государства, у которого на том месте, где водился когда-то несомненный артистический дар, давно уже выросла огромная мигалка».
«Бабло – это не то, что зарабатывают, копят, вкладывают в экономику, образование или здоровье. Бабло – это то, что отжимают, откатывают заносят, наваривают, отмывают и прокручивают».
«…такими поэтическими словосочетаниями, как “горячий снег”, “слепящая тьма”, “крещенский зной”, “суверенная демократия”, “агрессивный либерализм”, можно восхищаться лишь в том случае, если ты при этом твёрдо знаешь, что в реальной жизни ни того, ни другого, ни третьего не бывает».
За всем этим весёлым и драматическим гвалтом Рубинштейн то и дело проговаривается: в его тексты вместе с шумом времени врываются воспоминания. И тут же появляются коммуналки 1950-х и дворы, полные шпаны, авторитарная советская школа и смерть Сталина, стиляги и еврейский вопрос, вторая культура 1970-х и ущербные прелести советского быта.
«Время действия – зима 1953 года. Трамвай проезжает мимо одного из многочисленных портретов усатого человека в военной форме. Тут мальчик Лёва на весь вагон звонким своим голосом спрашивает: “Мама, а Сталин когда уже умрёт?”».
Да, ностальгия, да, детство–юность–молодость, плотная материя жизни, но при том никакой советской сказки, никаких новых старых песен о главном.
«И помню я – нельзя этого забыть – бесконечно повторяемую мамашами и няньками, воспитательницами детских садов, учительницами младших и старших классов, продавщицами и официантками, билетными кассиршами и уборщицами метрополитена, участковыми врачами и ткачихами с поварихами идиому “зла не хватает”. Уж чего-чего, а зла хватало. Всегда».
Вот оно – ядро личности Рубинштейна – христианское по своей природе представление о зле, преломленное через идеалы эпохи Просвещения и отданное на хранение в пушкинский дом русской литературы, который, как известно, взрастил не одно поколение писателей, живущих в состоянии экзистенциальной тревоги за судьбы родины. Отсюда осознание миссии художника:
«Искусство иногда сознательно, а чаще бессознательно берет на себя функции тех органов общественного организма, которые отказываются работать. Художник ощущает свою ответственность чаще всего интуитивно. Это вопрос не личной отваги, а интуиции, личного темперамента и, извините за пафос, профессионального долга».
С поправкой на стилистику и лексику ХХI века так могли формулировать хоть неистовый в борьбе с левиафаном Белинский, хоть печалующийся о порче нравов Гоголь.
У Рубинштейна, то функционирующего в модусе воспоминаний, то цепко наблюдающего и комментирующего современность, есть обрастающая по мере говорения аргументами система ценностей, вполне даже политических, – так, что каждая колонка, будь она про имперские синдромы и пресловутую геополитику, или про далёкие от идеала особенности национального характера, или про отношение российского общества к геям, становится политической акцией, одиночным пикетом. В этом отношении нельзя не вспомнить слова другого представителя условного поколения «семидесятников» Виктора Ерофеева, заметившего, что либеральные ценности – это и есть традиционные гуманистические ценности, выношенные и рождённые русской литературой. В своих колонках Рубинштейн не просто идёт за новостными поводами, но страстно препарирует квазипатриотические дискурсы, выкованные агрессивной отечественной пропагандой, а по сути, предлагает альтернативный, очень трезвый взгляд на происходящее, без которого невозможен был бы тот самый смех сквозь слёзы, наполнивший книгу поэта.
И здесь Рубинштейн снова совпадает в словах и оценках с Ольгой Седаковой: у зла в условиях советской и теперь российской реальности есть синоним – антропологическая катастрофа (как некогда сформулировал Мамардашвили). Неотличение зла – не просто примета времени, но устойчивая характеристика советского и постсоветского человека, в массе своей непросвещённого, живущего потребами сегодняшнего дня – как ему и лишь ему удобнее. И вернёмся к тому, что если кто-то зло должен отличать и называть, так именно тот, кто наследует гуманизму русской и европейской культуры. В этом плане Рубинштейн совпадает не только с Седаковой, но также с писателями своего поколения: от Людмилы Улицкой до Светланы Алексиевич, от Анатолия Курчаткина до Александра Кабакова и Петра Вайля. Поколения, сменившего шестидесятников с их недавним статусом патриархов литературы, а вместе с тем принявшего на себя очень странную и далеко не самую приятную функцию общественной совести.
При этом за политикой Рубинштейн ни на секунду не забывает поэзию: он слышит слова. То есть не просто слышит, но различает малейшие нюансы значений, а потому «суверенная демократия» – это оксюморон, а рассказанная история часто может быть историей одного слова или фразы, как случай про любознательную девочку, которая однажды поинтересовалась: «Если змея заползёт в крапиву, то кто кого ужалит?»
«Сбыт мечты», «Словарный диктат», «Откуда мы все вышли», «Песня оленине», «Лебединое болото», «Признак бродит», «Выросла скрепка», «Минкульт предков» – Рубинштейн остроумен и точен. И, разумеется, поэтичен. Существует же мощная традиция поэтического фельетона или фельетона прозаического, но строящегося на игре слов.
По большому счету, «Что слышно» – ещё и своеобразный итог концептуализма, с одной стороны, смыкающегося с политическим акционизмом, с другой, неизменно реализующего поэтическую функцию. Пусть, колонки Рубинштейна – не поэма, не роман, но совсем не случайно автор вспоминает слова Шкловского: «…не нужно лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное».




